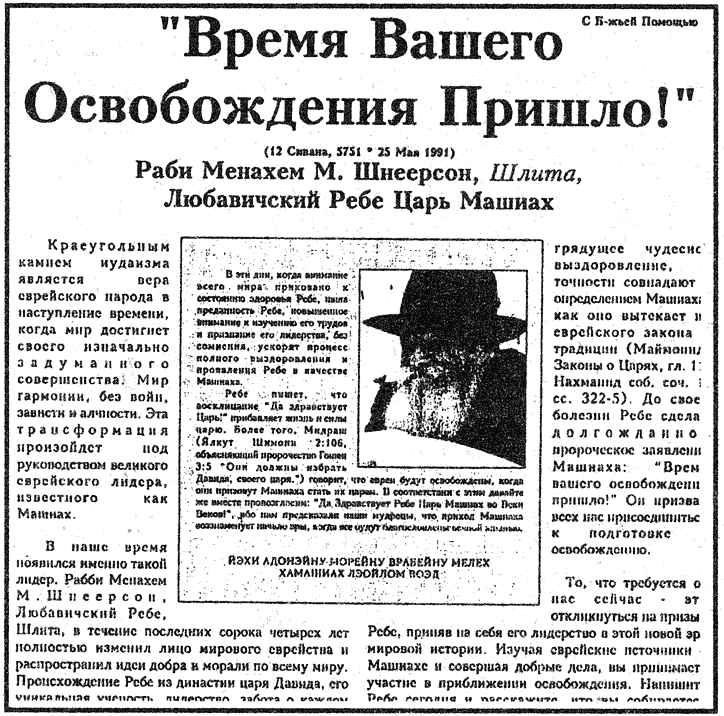Кромешная тьма и Толстой
В начале главы мы, руководствуясь словами апостола Иоанна Богослова, решили так распознавать писателей. Если писатель исповедует Христа пришедшего во плоти, значит его творчество можно считать приемлемым для крестьян. Не исповедует, значит – не приемлемо. Но легко нам было так решить, да нелегко исполнить. Как узнать, исповедует или не исповедует тот или иной писатель Воплотившегося Бога?
Всё ясно, например, с Толстым, он от Христа отрёкся. А как быть с другими? Да и с Толстым как быть? Куда деть его книги и портреты, висящие в школах и бросающие на юные души взоры, предавшие Христа? (*) Ребёнку вредно смотреть в эти глаза, да и взрослому человеку небезопасно вглядываться в светящиеся темнотой толстовские портреты. (выделено мной. - niles).
Кстати говоря, гоголевская повесть «Портрет» может послужить ярким примером того, как через образ действует личность. Для тех, кто не читал этой повести, скажу, что в ней рассказывается история портрета некоего ростовщика. Всякий, кто приобретал портрет, приобретал характер первообраза.
Повествование начинается с того, как портрет был куплен художником Чартковым (**) в картинной лавочке на Щукином дворе из-за необыкновенного вида глаз. «Это были живые, это были человеческие глаза! Казалось, как будто они были вырезаны из живого человека и вставлены сюда. Здесь не было уже того высокого наслажденья, которое объемлет душу при взгляде на произведение художника, как ни ужасен взятый им предмет; здесь было какое-то болезненное, томительное чувство».
Живыми глазами нас теперь не удивишь. Мы видим их в телевизоре. И они для нас ещё более притягательны (***), чем портретные глаза, потому что меняются ежесекундно. Но если в 19-м веке для придания живости нарисованному взгляду от художника требовались немалый труд и умение, то в 21-м веке эта живость стала зависеть от качества телеаппаратуры.
__________
(*) «В самом деле, куда прикажете деть «Детство. Отрочество. Юность», «Севастопольские рассказы», «Войну и мир»?» - спросили автора по прочтении этих слов живые, а не выдуманные им читатели. Со свойственной ему прямотой автор ответил: «Можно взять их в ад вместо Псалтири».
(**) «Чартков» не от слова ли «черта»? Не хотел ли Гоголь этой фамилией указать на некую черту, которую переступил Андрей Петрович Чартков? Как и само именование нечистого не от «черты» ли происходит? Кстати, схожую с фамилией гоголевского художника носил секретарь Л.Н.Толстого Чертков.
(***) «Вот как? Эти ужасные, пустые, безсодержательные глаза, отражающие все букеты порочных страстей, владеющих этими несчастными человеками, для нас притягательны?» - спросили автора. «Я говорю о теленаркоманах, которых и среди христиан предостаточно», - ответил он.
Возникает вопрос: если изображённые на портрете глаза были так совершенны, что казались живыми, то почему они вызвали у художника чувство томления вместо того, чтобы вызвать восхищение?
Гоголь устами своего персонажа так отвечает на этот вопрос: «Что это? невольно вопрошал себя художник. Ведь это однако же натура, это живая натура: отчего же это странно-неприятное чувство? Или рабское, буквальное подражание натуре есть уже проступок и кажется ярким, нестройным криком? /.../ Почему же простая, низкая природа является у одного художника в каком-то свету, и не чувствуешь никакого низкого впечатления; напротив, кажется, как будто насладился, и после того спокойнее и ровнее всё течет и движется вокруг тебя. И почему же та же самая природа у другого художника кажется низкою, грязною, а между прочим он так же был верен природе. Но нет, нет в ней чего-то озаряющего. Всё равно как вид в природе: как он ни великолепен, а всё недостает чего-то, если нет на небе солнца».
Мне кажется, дорогой читатель, что, размышляя о свойствах картин и производимом ими впечатлении, Гоголь говорит о гораздо большем, чем о живописи. Мне кажется, что гоголевскую мысль можно продлить бесконечно далеко и сказать, что самый ад есть состояние «буквального подражания натуре», но, не имея в себе «чего-то озаряющего», он остается низким и грязным. Всё там, в аду, как здесь, на земле, всё является точной копией созданного Богом мiра, только без солнца на небе – Солнца Правды, Христа Бога нашего.
Здесь рассуждения художника Чарткова заканчиваются, и он «опять подошел к портрету с тем, чтобы рассмотреть эти чудные глаза, и с ужасом заметил, что они точно глядят на него. Это уже не была копия с натуры, это была та странная живость, которою бы озарилось лицо мертвеца, вставшего из могилы».
Помните, какой увидел панночку Хома Брут? «В ее чертах ничего не было тусклого, мутного, умершего. Оно было живо, и философу казалось, как будто бы она глядит на него закрытыми глазами». И в панночке, и в ростовщике мертвенность – живая, и эта мертвенность – глядит.
Гоголь прав, дорогой читатель: ад жив. Ад глядит и манит. И невозможно противостоять его властно зовущей к себе силе без силы молитвы. (*) Действие же адской силы Гоголь с присущей ему наблюдательностью описывает так. «Он тихо отошел от портрета, отворотился в другую сторону и старался не глядеть на него, а между тем глаз невольно сам собою, косясь, окидывал его».
В Чарткове возникает то же чувство, с каким Хома Брут смотрел на мертвую панночку: и страшно, и томительно, но удержаться, чтобы не смотреть, нет сил. Помните, как это было у Хомы? «Он отворотился и хотел отойти; но по странному любопытству, по странному поперечивающему себе чувству, не оставляющему человека, особенно во время страха, он не утерпел, уходя, не взглянуть на нее и потом, ощутивши тот же трепет, взглянул еще раз».
__________
(*) На тему адского влечения, неодолимого без помощи молитвы, у писателя Андрея Платонова есть образ рыбака, который утопился только потому, что хотел знать: а что там? «Созерцая озеро годами, рыбак думал все об одном и том же – об интересе смерти. Захар Павлович его отговаривал: «Нет там ничего особого: так, что-нибудь тесное». Через год рыбак не вытерпел и бросился с лодки в озеро, связав себе ноги веревкой, чтобы нечаянно не поплыть. Втайне он вообще не верил в смерть, главное же, он хотел посмотреть – что там есть». «Котлован» и «Чевенгур» А.Платонова не о том ли самом? Только уже не рыбак, но целая страна бросилась узнавать, связав себе руки и ноги верёвкой, можно ли жить без Бога? Об этом же говорит Д.Хармс в рассказе «Сундук».
Далее в повести рассказывается, как художник увидел жуткий сон с выпрыгивающим из портретной рамы стариком-ростовщиком. Интересно, какой сон увидел бы впечатлительный Чартков, пообщайся он с нынешним телевизором только один воскресный вечер? Кто бы сегодня выпрыгнул на него из телевизионной рамы? Сам ч...? Впрочем, этот не выпрыгнет из телевизора до назначенного ему времени «ч», иначе телезрители в ужасе разбегутся.
Пословица говорит, что «не так страшен ч..., как его малюют». Это, конечно, неправда, живой ч... несоизмеримо страшнее намалёванного. И потому гораздо умнее самой пословицы вышла её переделка: «Не так страшен ч..., как его малютки». Эти милые малютки потому страшнее самого ч..., что привлекают к себе и соблазняют, или на святоотеческом языке говоря, прельщают простодушных читателей.
Поворот Толстого к тёмной силе произошёл не сразу. Было время, когда и в его творчестве отражались Божии лучи. Когда же произошёл поворот от света к тьме? Где провести черту в книгах писателя, чтобы можно было уверенно сказать, что досюда их читать можно, а отсюда уже никак нельзя?
Апостол Иаков отчитал бы нас за такой вопрос. С самого начала этих записок он предостерегал нас от душевных и земных мудрований, ставя их в один ряд с бесовскими. Мы же его не послушались, и вот до чего договорились. До попыток разграничить писания богохульника Толстого на очень и не очень хульные. Тогда как апостол говорит: один источник не может изливать соленую и сладкую воду (Иак.3:12).
Сердце писателя как источник слов не может одной своей половиной изливать полезные, а другой половиной – неполезные для читательской души слова. Поэтому все без исключения сочинения Льва Толстого – душевредны, только в разной мере: ранние сочинения в меньшей, поздние в большей. Толстого разграничить нельзя.
Но не хочет ум смириться с этой мыслью, бунтует негодный. А вот мы его к стенке припрём, вернее, на крыше Иерусалимского храма поставим, между апостолом Иаковом и писателем Львом Толстым в тот самый час, когда фарисеи и книжники кричали собравшемуся внизу народу: «Сейчас праведник, которому мы все должны верить, скажет вам, что вы заблуждаетесь, считая Иисуса Сыном Божиим». А затем обратились к святому Иакову: «Скажи нам по истине, что ты сам думаешь о Христе?»
На что святой ответил громким голосом: «Что спрашиваете вы меня о Сыне Человеческом, Который добровольно потерпел страдание, был распят, погребен и на третий день воскрес из мертвых? Он ныне сидит на небесах одесную Вышнего и снова приидет на облаках небесных, судить живых и мертвых». После этих слов они в злобе и ярости сбросили Иакова с кровли храма на страх всем, чтобы не верил народ словам святого. (*)
__________
(*) Жития святых Святителя Димитрия Ростовского. Октябрь. Двадцать третий день.
С кем ты, трепещущий ум? С апостолом Иаковом? Или с толпой фарисеев, среди которых выделяется писатель Лев Толстой? Или скажешь, что ты с апостолом и с писателем одновременно? Не обманывайся, так не бывает, надо выбрать одного из двух. А если не выберешь, будешь безрезультатно болтаться между апостолом и Толстым, в очередной раз доказывая бескомпромиссную правоту первого: Муж двоедушен неустроен во всех путех своих (Иак.1:8).
Зеркала темнеют постепенно. Но и полная темнота, ещё не чернота. Вот и мы, касаясь советской истории, говорили, что даже в коммунистической темноте можно увидеть свет. Что же? Мы тогда двоедушничали? Да, конечно, свет во тьме светится, и тьма его не объят (Ин.1:5). В какой угодно темноте, даже в самой тьмущей и непроглядной можно увидеть Свет Божий, только не в кромешной.
Кромешная же темнота – темнота «кроме», темнота «за чертой» – начинается там, где на Бога смотреть не могут. С той самой границы, где Божий Свет вызывает только ненависть, начинается тьма кромешная. Разумеется, что это не та внешняя граница, где бы стоял часовой на посту. Эта граница – внутренняя, и пролегает она внутри человеческого сердца.
Но если постового к этой границе не поставишь и шлагбаума не укрепишь, то, как нам быть? Как нам узнать, с какого дня Божий Свет начал невыносимо резать пронзительно-острые глаза графа Толстого? Влезть же в писателя, чтобы узнать, когда он оказался не просто в темноте, но во тьме кромешной, мы не сможем. Опять одни вопросы. Нет чтобы по-хорошему раз и навсегда отвернуться от творческого наследия этого предателя Христова. Разбирайся теперь с этим...
Мне кажется, что вопрос с Толстым скоро решится сам собой, как решится он с Гоголем, Достоевским, Блоком, Есениным, другими нашими классиками. Скоро русские люди перестанут читать свою литературу. Взрослые перестают её читать, становясь взрослыми, а дети не будут читать, если их силком не заставишь, но скоро их уже и силком не заставишь. Да и что это за чтение из-под палки? Разве бывает любовь по принуждению?
Вы, может, думаете, дорогой читатель, что я сейчас начну скорбеть о том, что скоро мы перестанем читать нашу родную словесность? Может, думаете, что начну громить нынешние книжные прилавки, к которым православному человеку неприлично подходить? Или думаете, что начну бить тревогу о стремительном падении нашего культурного уровня? Но после критического обзора, который мы с вами совершили, не удивляйтесь, читатель, тому, что я скажу: может, и хорошо, что мы перестанем читать? Может, меньше будет в голове образов и мечтаний? Меньше доступа для нечисти, больше времени для молитвы.
«Так неужели вы радуетесь тому, что мы скоро разучимся читать, а затем и думать?» - спросит удивлённый читатель.
Не радуюсь я, но плачу, потому что знаю, что если мы перестанем читать классику, то молиться от этого чаще и чище не будем, что мечтаний нисколько не уменьшится, что Священное Писание зачитываться до дыр не будет, что будет по-прежнему включен телевизор, а читаться будет всякая чушь. Некрасов в поэме «Кому на Руси жить хорошо» мечтал о том времени в России,
«Когда мужик не Блюхера
И не милорда глупого -
Белинского и Гоголя
С базара понесет».
Как же наивен, если не сказать большего, был поэт Некрасов. И что же это за предательская муть разлилась тогда по душе Руси? Что же это за время было такое гнилое, что не устраивало никого: ни дворян, ни разночинцев, ни крестьян, когда, казалось бы, должно оно было быть самым безмятежным, самым благополучным временем, и одно только должно было быть у всех на уме: живи да радуйся, да Бога благодари?
Если бы поэт Некрасов действительно переживал за русский народ, а не за свои глупые идеалы, то учил бы его Богу молиться и царя чтить. И сам бы за свой народ молился, и Белинского бы то же делать заставлял. Теперь же ничего не вернёшь. Теперь уже никогда не понесёт мужик с базара не только Гоголя с Белинским, но и «глупого милорда», потому что уставился он в телевизор. Потому что двери с петель сорваны. Двери русской цивилизации сорваны с церковных петель и брошены наземь. Русский дом стоит с выломанными дверьми, и живущие в нём живут на сквозняке.
Однажды сойдя с камня Священного Писания на зыбкий песок литературы, Русь пошла и поехала к обрыву.