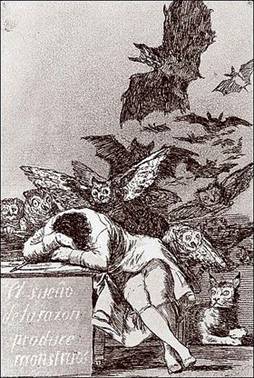Решился-таки начать очень важную и интересную тему, посвященную вопросам соотношения веры и разума. Уважаемый Владимир проявляет к ней устойчивый интерес, и С.Е. Кургинян ее затронул в последнем выпуске «Смысла игры», так что тема эта у всех участников форума на слуху, и некоторым, возможно, еще захочется по ней высказаться.
Сразу поясню мое собственное отношение. Мне кажется, что в данном случае, как и во многих других, мы имеем дело с вопиющей подменой понятий. Никакого «противоречия» между верой и разумом нет, и не может быть. И на самом деле, понять это совсем не трудно. Ведь что такое «вера», в чем ее источник?
Источником веры в человеке является простое наблюдение за окружающим миром и своими собственными внутренними переживаниями. Любой сколько-нибудь развитый в умственном отношении человек не может не замечать того, что:
1. Во-первых, существует проблема зла и несовершенства человеческой природы.
2. Во-вторых, в жизни много страданий, болезней, трагедий, неудач, огорчений и т.п., которые для многих людей, в своей совокупности, могут значительно перевешивать «простые радости жизни», так что сама жизнь им оказывается неприятна, «в тягость».
3. В-третьих, человек смертен, и сама жизнь оказывается состязанием с заранее предначертанным концом, причем, концом фатальным. На чисто физическом уровне бытия каждая жизнь – это заранее запланированная катастрофа.
Из этих простых наблюдений любой разумный человек неизбежно должен сформулировать главный для себя вопрос – о смысле жизни. В ЧЕМ СМЫСЛ всей этой маеты? И должен попытаться как-то его решить. Смерть не может быть целью человеческой жизни. Человек (гой) – это единственное животное, которое заранее знает, что оно обречено на гибель, и способно к серьезному, хладнокровному осмыслению такой трагической неизбежности.
Вопрос о смысле жизни – пожалуй, даже не вопрос, а загадка, мистерия, краеугольная проблема бытия - неразрывно связан с целым комплексом иных вопросов – о происхождении жизни, о космогонии, о некотором высшем разуме, который способен нашу жизнь наделить смыслом, помимо нашей воли и сознания, о бессмертии и т.д. Иначе говоря, с вопросом о Творении и Воле Творца.
Причем вопрос о смысле жизни, при всей его сложности и многогранности, прежде всего, предполагает два фундаментальных на него ответа: ДА или НЕТ, есть высший смысл (не зависящий от нас или даже совершенно не доступный нам) или его нет. Таким ответом определяется все остальное. И, прежде всего, определяется наличие или отсутствие веры. Если ответ положительный – вера есть. Если ответ отрицательный – веры нет.
Вот пример рассуждений (словоблудия) человека, решившего для себя вопрос отрицательно. Очевидно, он рассчитывал, что в стихе останется незамеченным:

To be, or not to be: that is the question:
Whether 'tis nobler in the mind to suffer
The slings and arrows of outrageous fortune,
Or to take arms against a sea of troubles,
And by opposing end them? To die: to sleep;
No more; and by a sleep to say we end
The heart-ache and the thousand natural shocks
That flesh is heir to, 'tis a consummation
Devoutly to be wish'd. To die, to sleep;
To sleep: perchance to dream: ay, there's the rub;
For in that sleep of death what dreams may come
When we have shuffled off this mortal coil,
Must give us pause: there's the respect
That makes calamity of so long life;
For who would bear the whips and scorns of time,
The oppressor's wrong, the proud man's contumely,
The pangs of despised love, the law's delay,
The insolence of office and the spurns
That patient merit of the unworthy takes,
When he himself might his quietus make
With a bare bodkin? who would fardels bear,
To grunt and sweat under a weary life,
But that the dread of something after death,
The undiscover'd country from whose bourn
No traveller returns, puzzles the will
And makes us rather bear those ills we have
Than fly to others that we know not of?
Thus conscience does make cowards of us all;
And thus the native hue of resolution
Is sicklied o'er with the pale cast of thought,
And enterprises of great pitсh and moment
With this regard their currents turn awry,
And lose the name of action.Быть или не быть, вот в чем вопрос. Достойно ль
Смиряться под ударами судьбы,
Иль надо оказать сопротивленье
И в смертной схватке с целым морем бед
Покончить с ними? Умереть. Забыться.
И знать, что этим обрываешь цепь
Сердечных мук и тысячи лишений,
Присущих телу. Это ли не цель
Желанная? Скончаться. Сном забыться.
Уснуть... и видеть сны? Вот и ответ.
Какие сны в том смертном сне приснятся,
Когда покров земного чувства снят?
Вот в чем разгадка. Вот что удлиняет
Несчастьям нашим жизнь на столько лет.
А то кто снес бы униженья века,
Неправду угнетателей, вельмож
Заносчивость, отринутое чувство,
Нескорый суд и более всего
Насмешки недостойных над достойным,
Когда так просто сводит все концы
Удар кинжала! Кто бы согласился,
Кряхтя, под ношей жизненной плестись,
Когда бы неизвестность после смерти,
Боязнь страны, откуда ни один
Не возвращался, не склоняла воли
Мириться лучше со знакомым злом,
Чем бегством к незнакомому стремиться!
Так всех нас в трусов превращает мысль,
И вянет, как цветок, решимость наша
В бесплодье умственного тупика,
Так погибают замыслы с размахом,
В начале обещавшие успех,
От долгих отлагательств.
(перевод Б. Пастернака)
Между тем, вера именно в этом и состоит – в глубокой внутренней убежденности в высшем смысле человеческого существования. В серьезном отношении к бытию, к своему собственному «Я». В способности к преодолению трагического несовершенства своей собственной природы. Иначе говоря, в способности к трансценденции.
Я утверждаю, что любой психически здоровый и умственно развитый человек неизбежно даст на фундаментальный вопрос о смысле жизни положительный ответ. Это естественная онтологическая интуиция. И, конечно, христианство представляет собой наиболее развернутый, честный и психологически глубокий положительный ответ на такой вопрос.
Я также утверждаю, что все так называемые «евреи» (адепты вавилонского интернационала сатаны) дали на данный вопрос отрицательный ответ. Именно такой отрицательный ответ их и объединил, он и определяет их принадлежность к интернационалу.
В то же время, дрессированные совочки – это существа, не способные для себя даже грамотно сформулировать фундаментальный вопрос о смысле жизни, а потому не способные к вере, к трансценденции. Они просто оказались интеллектуально опущены раввинами ниже плинтуса, ниже духовной проблематики, ниже собственно человеческого уровня.
Можно, конечно, подойти к вопросу о вере и с другой стороны – с точки зрения этимологии самого термина. Бросается в глаза близость «веры» и латинского «veritas» (истина) или «verus» (истинный). Какой язык является в данном случае первичным, для нас роли не играет. Очевидно, что «вера» буквально означает истину или устремленность к ней. И не какую-нибудь вторичную истину, а самую основную.
Для справки приведу определение из «психологического словаря»:
http://psychology.academic.ru/280/вера
вера
1. Особое состояние человеческой психики, состоящее в полном и безоговорочном принятии некоих сведений, текстов, явлений, событии или собственных представлений и умозаключений, кои в дальнейшем могут выступать основой его Я, определять некоторые из его поступков, суждений, норм поведения и отношений.
2. «Признание чего-либо истинным с такой решительностью, которая превышает силу внешних фактических и формально-логических доказательств. Это не значит, что истины веры не подлежат никаким доказательствам, а значит только, что сила веры зависит от особого самостоятельного психического акта, не определяемого всецело эмпирическими и логическими основаниями» (Вл. Соловьев). С позиций материализма, вера всегда выступает как результат предварительной работы сознания, создающего представления субъекта о мире, о его месте в нем, о связях и отношениях этого мира. Построение непротиворечивой, все объясняющей картины мира (см. образ мира) -это работа сознания субъекта, опирающегося на механизмы познания, предвосхищения (см. антиципация), атрибуции каузальной, вытеснения, рационализации, замещения и пр. Чем пытливее ум человека, тем сложнее его умопостроения, тем меньше у него оснований для слепой веры. Если же «вера утверждает более того, что содержится в данных чувственного опыта и выводах разумного мышления, то, значит, она имеет свой корень вне области теоретического познания и ясного сознания вообще». Вера всегда связана с предметом, содержательно им определяется и бесконечно многообразна в проявлениях. Так, если предметом веры выступают явления внешней действительности и изучающий их субъект предоставляет подтверждаемые опытом доказательства истинности своих результатов, то здесь имеется убежденность или вера в свою правоту. Иное содержание имеет вера в случае, когда человек не способен охватить разумом чрезмерно сложный или не поддающийся рациональному объяснению объект. Тогда он либо так или иначе отказывается от познания, включая механизмы вытеснения, замещения или рационализации, либо упрощает и редуцирует объект, предпочитая иррациональную веру без всяких доказательств. Основания такой веры лежат глубже знания и мышления. Она по отношению к ним выступает как факт первоначальный и потому сильнее их. Например, применительно основ нашего бытия вера — это более или менее прямое или косвенное, простое или усложненное представление в сознании досознательной связи субъекта с объектом. Чем проще, всеохватнее и неизбежнее эта связь, тем сильнее соответственная ей вера. Так, всего сильнее вера в реальность внешнего мира, ибо она лишь отражает в сознании тот исходный, простой и неустранимый факт, что каждый человек — часть всемирного целого, часть общего бытия. Близкое отношение к предмету свойственно религиозной вере, объектом коей выступают вопросы бессмертия души, свободы воли, существования божества, множественности его проявлений и пр. Будучи связана с поисками человеческого духа, религиозная вера не зависит прямо от таких простых и безусловных оснований, как реальность физического бытия человека в физическом мире. Потому особым предметом веры выступают не только процессы духовного бытия, но и сами объекты и постулаты религиозной веры. Свобода вероисповедания как раз заключается в том, что человек включает в свой образ мира существование внематериального мира, а также в отсутствии преследования за исповедание веры.
Словарь практического психолога. — М.: АСТ, Харвест. С. Ю. Головин.1998.
По тому, как безнадежно запутан сравнительно простой вопрос, по полному отсутствию глубины в определении и даже по отсутствию психологизма в его постановке – можно понять, что к написанию статьи приложили руку талмудические гендеры (давно уже для себя решившие вопрос о вере отрицательно и корпоративно). Иначе - откуда такая путаница в головах?
Понятно, что так называемые «евреи» - далеко не единственные скептики и циники на планете, не они одни дали отрицательный ответ на вопрос о смысле жизни и, тем самым, отвергли веру. Есть еще буддисты, различные шиваистские школы, всевозможные сатанинские секты…
Однако, поскольку вавилонский сатанизм, основанный на талмуде и каббале, является наиболее распространенной на планете и наиболее агрессивной (и опасной для человеческой цивилизации) формой неверия, то на нем нам стоит сконцентрировать основное внимание. Приглашаю высказываться всех желающих. Можно и смежные темы затронуть.