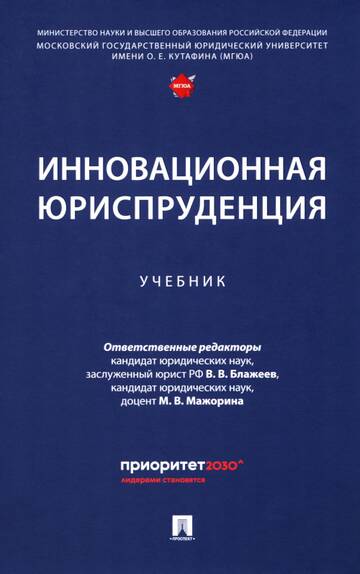Сорняк написал(а):Мимо кассы.
Хотя данный текст, по моему мнению, представляет собой качественно низкопробное произведение, я всё же полагаю, что этот отрывок годится для анализа.
Конспирология – излюбленный прием пропаганды
Автор задаёт языковую конструкцию, обладающую исключающей функцией. Лексема «излюбленный» предполагает презумпцию целенаправленного зла, «приём» лишает речь субъектности, а «пропаганда» маркирует пространство ложности. Таким образом, термин «конспирология» редуцируется до ярлыка, пригодного для риторического удаления объекта из поля рационального анализа.
Учитывая, что автор — специалист по теоретической и прикладной лингвистике, подобный выбор лексики не может быть приписан неосознанной импульсивности. Напротив, здесь проявляется сознательное применение лингвистического ресурса как инструмента иерархизации дискурса.
Далее автор прибегает к обобщающей редукции, представив «конспирологов» как однородный блок. Это ключевой момент манипуляции. В действительности под этим ярлыком скрывается крайне разнородная совокупность позиций, включающая:
– представителей левого и правого радикализма,
– религиозных представителей, эзотериков, технокритиков,
– интеллектуалов, маргиналов и социальных фрустрированных,
– рациональных критиков экспертной системы и псевдонаучных сектантов,
– людей с различными когнитивными стилями: от аналитиков высокого уровня до обладателей синкретического или мифопоэтического мышления,
– носителей как академического, так и неформального, самоорганизованного знания,
– индивидов всех возрастных категорий, социальной принадлежности и уровня институционального капитала,
– субъектов, стремящихся к метапозиции — к синоптическому обзору множества нарративов и к построению холистических, интердисциплинарных карт реальности.
Это статистически аморфная среда, объединённая лишь общим вектором скептицизма к доминирующим нарративам. Попытка представить такую группу как скоординированную, лживую и психологически мотивированную сеть — и есть форма вторичной конспирологии: теория заговора о теоретиках заговора.
Если все мнения равноправны, то я могу сесть и немедленно отправить и мое мнение в Интернет, не затрудняя себя многолетним учением и трудоемким знакомством с тем, что уже знают по данному поводу те, кто посвятил этому долгие годы исследования. (...)
Где, согласно собственному восприятию Палопа, он располагается за этим столом, и какое место отводит ув. Админу? Who is who в этой конструкции?
Особое внимание заслуживает переход от лингвистической дезавуации к психологизации. Ссылка на исследования, согласно которым «веру в конспирологию разжигает обида», подменяет вопрос истины вопросом мотива. Даже если так, это не опровергает содержание тезисов и теорий. Истина не зависит от психологических причин её появления.
Показателен логический круг, возникающий при определении конспирологических теорий как «неправдоподобных, нелогичных или фантастических тайных планов». Это — нормативная дефиниция. В неё изначально заложен критерий ложности. То есть теория признаётся конспирологической, потому что она кажется неправдоподобной, а неправдоподобной она считается, потому что она — конспирологическая. Это замкнутый контур, в котором возможность рационального рассмотрения устраняется структурой самого высказывания.
Ссылка на Зализняка придаёт тексту видимость опоры на авторитет. Однако из цитаты следует принципиально другое: Зализняк описывает ситуацию кризиса доверия, возникшего в условиях политизированной гуманитарной науки. Его мысль более сложна: официальная наука, поставленная на службу идеологии, теряет доверие, и это доверие затем перераспределяется в пользу сенсационализма. Но сам текст Марголис воспроизводит аналогичную логику исключения: она, как и советская власть в примере Зализняка, делегитимирует иные версии на основании их отклонения от «официального» курса. Получается, что логика, которую она осуждает, повторяется — но в инверсии.
Финальный пассаж — «гениальный ум чувствует опасность там, где я тогда замечала лишь глупость» — выглядит как акт интеллектуального раскаяния, но по факту он только усиливает эффект дискредитации. Упрощённый тезис звучит так: если Зализняк считает это опасным, значит, это не просто глупость, а угроза. Однако здесь вновь отсутствует логическое звено между утверждением и доказательством. Опасность декларируется — и автор предлагает поверить в неё на основании авторитета. Таким образом, призыв к рациональности осуществляется иррациональными средствами.